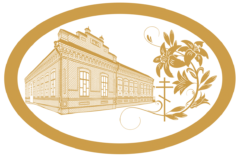Рубрика: Пушкинская карта
1
“Прикоснись к истории страны”. 17 августа 1898 года в Москве в присутствии царской семьи было заложено здание Музея изящных искусств имени императора Александра Третьего – ныне это Государственный Музей Изобразительных Искусств имени Пушкина.
“Прикоснись к истории страны”
Икона Святого преподобного Серафима Саровского. Финифть, медный сплав, ткань. Россия. 1900-е гг.
Икона Святого преподобного Серафима Саровского. Дерево, штамповка, гравировка. Россия. 1900-е гг.
Икона Святого преподобного Серафима Саровского. Хромолитография, дерево, золочение, ткань. Россия. 1900-е гг.
Среди экспонатов музея представлены иконы преподобного Серафима Саровского начала XX века. Подобные образки были обнаружены в шахте среди вещей алапаевских мучеников. Канонизация великого аскета и подвижника преподобного Серафима Саровского в 1903 году стала поистине всероссийским торжеством. В Саровских торжествах приняли участие вся Императорская семья и тысячи людей со всех концов России.
Торжество церковного прославления преподобного Серафима Саровского состоялось 19 июля (1 августа н. с.) 1903 года. Его почитали как великого чудотворца ещё при жизни. Церковное прославление отца Серафима в лике святых последовало ровно через 70 лет после его преставления. Причем противодействовали канонизации почти все члены Святейшего Синода, включая обер-прокурора К. П. Победоносцева. Настаивал же на прославлении старца и сделал всё для того, чтобы оно состоялось, последний российский Император Николай II.
За годы царствования Николая II было канонизировано святых больше, чем за два предшествующих столетия. При совершении этих деяний святой Государь в духовном плане зачастую шел впереди Святейшего Синода, находившегося «под известным влиянием века, с его равнодушием и скептицизмом в делах веры». Император вынужден был проявить особую настойчивость, добиваясь канонизации преп. Серафима Саровского, святителя Иоасафа Белгородского и Иоанна Тобольского.
Неизгладимое впечатление произвели торжества в Сарове на Великую княгиню Елизавету Федоровну. В письме из Сарова она пишет: «Какую немощь, какие болезни мы видели, но и какую веру. Казалось, мы живем во времена земной жизни Спасителя. И как молились, как плакали – эти бедные матери с больными детьми, и, слава Богу, многие исцелялись. Господь сподобил нас видеть, как немая девочка заговорила, но как молилась за нее мать…». После торжеств 1903 года Елизавета Федоровна еще несколько раз приезжала в Саров и Дивеево для молитвы.
“Прикоснись к истории страны”. Журнал “Солнце России”. Письма с фронта (часть 1).
В музее представлены отдельные экземпляры журнала «Солнце России», который издавался в Санкт-Петербурге в 1910—1916 годах. Это иллюстрированный еженедельный журнал, он имел цветные иллюстрированные обложки, печатал обзоры художественных выставок, биографии молодых и маститых художников, выпускал специальные номера. В одном из военных номеров журнала (№ 255 декабрь 1914 года) напечатаны такие письма с фронта:
«С войны». На днях хоронили жену офицера, погибшего на войне 23 сентября. Умирая, госпожа Б. передала нам связку писем. На последней странице сделана приписка госпожи Б.: «Он хотел, чтобы эти письма прочли другие. Ему казалось, что так нужно. Мне, видно, не удастся исполнить его волю. Быть может это сделают другие, после меня».
Первое письмо от госпожи Б. к мужу:
«Милый! Ты не пишешь. Или я не получаю твоих писем? Голубчик мне тяжело, так тяжело, что временами мне начинает казаться, что этого нельзя пережить! И только я начала сознавать… О, твои глаза! Потом началось это, – я начала постигать ужас войны. Милый, помнишь, я всегда говорила тебе, что могу примириться с тем, что понимаю. А войны я не понимаю. Да, да, не понимаю… Болезнь любимого человека – ужас, но ее можно понять, к ней можно привыкнуть. Но ужасов войны я понять не могу. Ты помнишь, я боялась крови, я органически не выносила калечества, которое обезображивает; теперь я хожу по лазаретам, я впитываю в себя ужас страдания, я ласкаю их, этих родных моему сердцу раненых, и в каждом из них я вижу тебя. Милый, милый, милый! Но я же с тобой, вся всегда с тобой! О, Боже…» На этих словах письмо обрывается. Трудно разобрать последние слова. Трудно также установить, было ли это письмо послано по назначению, тем более, что в конце она пишет: «Не знаю, надо ли тебе писать все то, что я написала. Но я, знаешь, не умею мыслить и переживать без тебя». Потом опять следует перерыв и приписка: – «Нет, не надо посылать ему этого письма, лучше открытку: «Здорова, целую. Лили целует и помнит». Но такой открытки в связке писем не оказалось.
Письмо второе – от офицера к жене:
«Дорогая! Когда-то давно в детстве… Неужели было детство, было веселье, была радость без крови, без страданий?.. Да, да было! А будет-ли?.. Да, это было в детстве: мы с мамой и сестрой Олей жили у бабушки. Кстати о сестре Оле; говорят она пошла в сестры милосердия. Неужели это возможно – она, такая нежная, кроткая, и кровь, и страдание? Моя мысль стала биться, как пойманная птица, над вопросом – в чем смысл войны? Ее высшая задача? Война каждому народу в отдельности и всем вместе стоит так дорого, что, конечно, считать войну приемом экономическим не приходится. Основная, элементарная задача войны – победить, победить во что бы то ни стало, чтобы обеспечить целостность государства и его безопасность. Но чем можно победить? Нужны усовершенствованные, технически приспособленные предметы вооружения; это много, но это еще не все. Это теперь знает и чувствует, не только более ли менее культурный офицер, но каждый солдатик, который понимает, что если бы оружием можно было победить, то немцы победили-бы. Но они не победят; это теперь ясно и глубоко чувствуют все, включая и немецкого солдата. Я обращаю твое внимание на этот факт для того, чтобы разъяснить тебе мою мысль о том, что залог победы на войне не в этом, а в чем-то другом. Главную двигательную силу войны составляет дух войны. Великий мощный дух самоотвержения, который рождает боевую отвагу. А создает этот дух только полное самообладание, сила воли, укрепленная сознанием своей внутренней какой-то правоты. Как и чем можно создать эту силу воли. Я даже думаю, что ее не создают, она сама создается! И она крепка, о, как крепка в русском воине!.. Нет лучше воина нашего, это я говорю вполне сознательно, это признают даже враги наши. Только не гасите священного огня его души! Сила воли творит чудеса на войне, но только до тех пор, пока волевые акты генеральской воли говорят: – «я хочу, чтобы мои воины пожелали сделать это». А вольный дух солдата говорит: – «я хочу это сделать, и оно будет сделано». В таком взаимном понимании и уважении личности залог победы на войне.»
(Окончание следует)
Герой Первой мировой войны Козьма Крючков – символ русской воинской удали и отваги
В Первую мировую войну казаки войска Донского внесли существенную лепту, отправив на фронт 115 тыс. прекрасно обученных бойцов. О том, какой выучки были казачьи части, говорит количество павших в боях — у казаков оно составляло всего 3%.
За годы войны донцы потеряли убитыми всего 3626 человек, ранения и контузии получило 12 675 человек. В плен попало всего 164 человека — немцы казаков предпочитали в плен не брать, вычисляя их по лампасам на штанах, а случилось это после подвига донца Козьмы Фирсовича Крючкова, который с товарищами 12 августа 1914 года под городом Кальвария встретился с немецким отрядом.
И так уж получилось, что казаки остались в живых, а из немцев не ушел никто. Сам же Крючков убил одиннадцать германцев и стал первым казаком, получившим Георгиевский крест.